С поэтом, лингвистом и богословом Ольгой Седаковой беседует Анна Гальперина
Воспоминание о рае
– Ольга Александровна, каким было самое яркое детское впечатление?
– Я плохой рассказчик. Плохой в этом жанре – рассказывать о себе и по порядку. Я предпочитаю другие сюжеты и другую ситуацию: невольно приходящий на ум сюжет. Вот это я люблю рассказывать – и это у меня получается! Даже Татьяна Толстая отметила этот мой «дар рассказчика». Похвала прозаика льстит. А «немного о себе» – нет, не выйдет.
Тем более, что о детстве я писала и, конечно, лучше, чем могла бы теперь повторить. Я имею в виду прозу «Похвала поэзии». Она начинается с воспоминаний о самом раннем детстве, о дословесном опыте, о первых встречах реальности с языком.
О младенчестве: ведь младенец, infans по-латыни – это «не говорящий». Насколько я знаю, почти неописанная в литературе эпоха жизни. Только Лев Толстой помнил себя младенцем, которого купают. Но о первых встречах со словом он ничего не рассказывает. Раннее детство меня и интересует больше всего. Это другой мир, в который еще не вошла социализация и не разложила все по своим полочкам. По психоаналитическим, например. В сознании современника (я имею в виду европейского современника) с детством фатально связаны темы травмы, комплексов, подавления. Это уже готовые рамки для рассказа – даже рассказа себе самому. Мне такой дискурс не просто не нравится, но не кажется реалистичным.
Первое, что с нами происходит еще до всякой травмы – это захваченность реальностью, богатой, значительной, чудесной. Любая попадающаяся на глаза вещица видится сокровищем. Я до сих пор люблю эти сокровища. Но говорить о них уместнее в стихах или прозе прустовского типа, а не в «рассказе о себе». Странно, как многие люди остались без этого воспоминания о рае. Я уверена, что это опыт каждого ребенка. Что вытесняет его?
Если говорить конкретно, я родилась в Москве, на Таганке, на улице, которой теперь возвращено имя Николо-Ямской. В моем детстве она называлась Ульяновской.
Таганка, 1950-е. Фото oldmos.ru
Больше всего времени мы проводили с няней Марусей, крестьянкой из Орловской области, и с бабушкой. У многих моих ровесников были такие няни, девушки и женщины, сбежавшие из голодных колхозов и поступившие в домработницы – что обещало московскую прописку через сколько-то лет. Иногда они становились как бы членами семьи – помните, рассказ Лилианы Лунгиной о Моте, няне ее сыновей? Такие няни много значили в жизни московских «интеллигентских» детей. Они приносили нам совсем другой мир, другой язык.
Маруся говорила на южном, орловском диалекте. Моя бабушка, мать отца – на северном, владимирском. Их речь меня увлекала больше, чем «обычный» язык родителей. Родители уходили на работу, поздно возвращались и только в выходные дни мы могли побыть вместе. Но мне и это помнится так, будто они всегда были заняты. Для серьезных разговоров были няня и бабушка. Они со мной не скучали и не «воспитывали». О Марусе я писала (рассказ «Маруся Смагина»), о бабушке тоже. В упомянутой прозе я говорю и том образе молитвы (о двух разных образах), который я увидела в их лице: как молилась Маруся и как бабушка.
К бабушке и тете я временами уезжала гостить, и надолго. Они жили в деревянном доме в Перовом Поле, которое тогда еще не входило в Москву. Это была пригородная деревня. И этот мир мне нравился несравненно больше, чем московская квартира. Я не городской житель по душе.
А летом мы переезжали на дачу в Валентиновку.

Наш участок был на углу улицы Гоголя и улицы Пушкина. Улица Гоголя была значительно длиннее, и потому в детстве я думала, что Гоголь важнее Пушкина.

Младшая сестра Ирина родилась, когда мне было пять лет. Теперь она известный славист, доктор наук.
Ольга и Ирина
Об именах, кстати. Называли меня не по святцам. Отец очень любил Татьяну Ларину и хотел, чтобы его первая дочь была на нее похожа. Но придя регистрировать младенца (меня), родители увидели, что все девочки перед ними записываются Татьянами. Далеко от «Онегина», видно, было не уйти, и потому я стала Ольгой. Дальше пришлось отсчитывать от другого классического сочинения – «Трех сестер». Родители решили, что среднюю, Машу, можно пропустить. Так получилась Ирина.
Ни с пушкинской, ни с чеховской Ольгой я не нахожу в себе никакого сходства.
Когда мне было шесть лет, мы уехали в Китай: отец работал там военным советником. Полтора года мы жили в Пекине, в замкнутом городке для советских. На время нашей жизни в Пекине приходится перелом в отношениях Китая и СССР. В 1956 году поезд из Москвы выходил под песню «Москва – Пекин! Москва – Пекин! Идут-идут вперед народы!» Уезжали мы в конце 1957 года из другой атмосферы. Это было заметно даже ребенку. В Пекине я и пошла в первый класс, в русскую школу.
Уже в нынешнем веке на фестивале поэзии в Кельне мы встретились с китайским поэтом, который эмигрировал из Китая и писал по-английски. Выяснилось, что он был одним из тех пекинских детей, с которыми мы перекидывались подарками через каменную стену, которая окружала Седжиминь, наш городок. Мы сидели в кельнском кафе, и я сказала: «Посмотрите, какие они (кельнцы) беззаботные! Они не знают, от чего они спасены! Что было бы с ними, если бы мы с вами тогда не рассорились!» И мы взялись воображать, как для них стал бы обязательным в школе русский и китайский, и они бы учили наизусть наши стихи…
– Нет, – трезво сказал мой собеседник. – Они бы учили другого китайского и другого русского поэта.
– Теперь в Пекине и в Китае все по-другому? – спросила я.
– Да, – ответил мне китайский поэт, не желающий возвращаться в родную Поднебесную. – Все по-другому. Только люди те же.
Он шутил, как англичане.
Встретила я и другого мальчика из моего китайского детства – в Риме, в русской церкви на улице Палестро. Он стал православным священником, а был, когда мы жили в Седжимине, сыном военного инженера из Питера. Наши общие китайские воспоминания с о. Георгием (теперь он служит во Флоренции) еще интереснее, но это отдельный рассказ.
И вскоре удивляла взрослых, читая все вывески. На одной букве я, впрочем, всегда спотыкалась: на Ч. И до Китая, и особенно в Китае я утонула в чтении. Как это бывает в детстве, книжный мир и мир окружающий перепутывались, и мне казалось, что я живу в «Детстве» Льва Толстого и чувства Николеньки – мои чувства. И что кроме Маруси у меня есть и Карл Иванович. И что моя мама играет на фортепьяно, как мама Николеньки (ничего похожего!).
Я тебя не для тебя ращу, а для людей
Мы вернулись в Москву, на Таганку, и я пошла в московскую школу. После пекинской обстановка в классе мне показалась каким-то базаром: в пекинской школе дисциплина была, как в монастыре. Меня там поставили в угол за то, что я без спроса потрогала белую занавеску на окне рядом с моей партой. Признаюсь: я люблю строгость – какой-то мазохистской любовью. От вида разболтанности мне физически плохо. Видимо, Пекин повлиял.
Впрочем, отец строго меня воспитывал, и я ему благодарна за это. Иногда я бунтовала: «Почему другим можно, а мне нельзя?» Он отвечал: «А ты во всем хочешь быть, как другие, или только в этом (например, в передаче сплетен)?» Оставалось согласиться. Очень во многом я не хотела быть, «как другие». Или он говорил так: «Это не в твоем стиле!» У меня не было никакого стиля, да и теперь нет, наверное, – но аргумент действовал. Однажды он мне открыл свой воспитательский принцип (в ответ на очередной ропот): «Я тебя не для тебя ращу, а для людей. Чтобы им с тобой было хорошо». Он не был верующим человеком, но боюсь, немногие верующие и церковные люди относятся к собственным детям, исходя из этого принципа.
Потом началась «большая Москва», хрущевские микрорайоны. Из доходного дома начала века мы переехали на Хорошевку, из старой Москвы – в какой-то отвлеченный ландшафт без примет и без истории … Такие же безродные кварталы коробок построили на месте моего любимого Перова Поля.
Но повторю, то, что называют биографией, – ответы на ряд общеобязательных вопросов: семья, место рождения и т.п. – не так важно для душевной жизни, как какой-то случайный момент, случайный взгляд … Здесь может решаться все.

История впечатлений
– Может быть тогда Вы расскажете свою историю впечатлений?
– Но это еще труднее! Об этом нужно думать наедине.
Я с восхищением читаю автобиографические заметки Михаила Матюшина : он отмечает в своем детстве те самые «уколы», «шоки», из которых потом вырастает душа художника: например, разбитый кувшин на помойке, который навсегда очаровал его благородством античной формы… Так было и со мной. И «шоки античного» так же поражали меня. И многое другое. Но в форме интервью этого не расскажешь.
Если же говорить о христианских впечатлениях… Моя бабушка была действительно верующим человеком – глубоко, тихо верующим. Со своими детьми – советскими людьми и атеистами – она ни в какие споры не вступала.
Меня просто увлекал ее мир, я к ней тянулась. Она научила меня читать по-церковнославянски уже в детстве, и без этого я вряд ли могла бы взяться за словарь «Церковнославянскорусские паронимы», потому что ранняя память моя была полна этих странных, чудесных слов и фраз: «иже не иде…» Я помнила их, не вникая в смысл. Полупонятность их мне особенно нравилась. Бабушка просила меня читать ей вслух Псалтырь и акафисты, и эти слова запали в ум. Потом, во взрослом возрасте я стала задумываться об их смысле. Но уже было над чем подумать. «Непостоянно величие славы Твоея». Что же такое «непостоянно»?
Как у нас проходили русский язык!
– Ну, а школа была травмой?
– Школа в целом была тяжелой скукой, где для меня было очень мало интересного. Все интересное я узнавала не в школе. Из книг больше всего. Но в школе у меня были друзья, и это скрашивало тоску неинтересных уроков. С моей самой старинной подругой мы познакомились в четвертом классе. Она закончила архитектурный и занимается дизайном. Все школьные годы мы ходили с ней по выставкам, музеям. Она научила меня видеть пластику.
Может быть, сам состав школьной программы был и неплохой, но… Особенно русский язык и литература, их можно было возненавидеть. Русский язык! Не могу до сих пор успокоиться! Как у нас проходили русский язык! Это бесконечное переписывание грамматических упражнений Н и НН… А ведь можно изучать историю языка, говорить о его родстве с другими, о его диалектах, разбирать этимологии слов, говорить об истории литературного языка, его отношениях с церковнославянским, о стилистике – обо всем этом вообще не заходит речь на школьных уроках…
В Италии я видела школьные учебники итальянского языка – вот они построены совсем по-другому! Тот, кто учил родной язык там, имеет о нем замечательное представление, такое, какое и должно быть у культурного человека. В итальянском курсе итальянского изложено, в общем-то, все, о чем я сказала. И еще – навыки анализа языковой логики.
Думаю, что и другие предметы можно излагать совсем иначе. В дальнейшем я читала – иногда запоем – книги по новой физике, по биологии, даже по химии… В школе эти предметы меня томили. Почему ничего интересного, такого, что в самом деле занимает ум любого человека, не только физика или биолога, школьнику у нас не сообщают?
Кроме того, все гуманитарные предметы были отравлены идеологией. Например, у людей, которые изучали историю в советской школе, осталось о ней пустое или просто превратное представление. Концепция была простая: все на свете, начиная с Египта, готовило нашу великую революцию, и про каждую эпоху надо было знать, что «пауперизация масс росла и классовая борьба обострялась».
Разница между мной и моими европейскими друзьями – я не раз в этом убеждалась – в том, что историю они знают гораздо лучше меня. И тверже, и осмысленнее. Если, например, в Англии изучают викторианское время, то детей везут в типично викторианский дом, показывают, объясняют, как жили. В Англии я видела, как в музее девочки и мальчики «вживались в эпоху»: девочки пряли, а мальчики что-то еще делали, чтобы руками почувствовать, каким он был, XVI, скажем, век. А наши курсы истории, и отечественной, и мировой, были просто промыванием мозгов, все это хотелось сдать и забыть навеки. Так же, как собирание электрических цепей на уроках физики.
А это мы напечатаем после твоей смерти
– Стихи я сочиняла с детства, и лет с 10 ходила в литературную студию.
– А родители вас поддерживали?
– Да, но, слава Богу, никакого самолюбия на этот счет у них не было. Не было такого, что вот, мол, у нас растет гениальная девочка. Даже до последних лет им это было довольно безразлично. И я полагаю, это хорошо, это счастье! Я видела, как дети, на которых родители возлагают большие надежды, деформируются под таким гнетом. При этом, поняв, что мне хочется сочинять и что я постоянно этим занята, мама отвезла меня в студию во дворце пионеров на Ленинских горах. Я ее посещала лет пять. Там было много смешного… Об этом я тоже писала в «Путешествии в Брянск». И в то время мои стишки даже печатали – в «Пионерской» и «Комсомольской правдах», давали премии. Все как будто шло к нормальной карьере советского писателя, и можно было поступать в литинститут. Но у меня хватило ума туда не идти (прошу прощения у тех, кто там учился).
– Почему вы решили туда не поступать?
– Потому что мне хотелось учиться … Я чувствовала собственное невежество.
– А в литинституте не учатся?
– Естественно, я не очень-то представляла ситуацию изнутри, но почему-то я предполагала, что если там учат быть писателем, то вряд ли для этого требуются какие-то фундаментальные знания. Мне хотелось учиться всерьез «и в просвещении быть с веком наравне». Мне всегда были интересны языки – и древние, и новые, и история русского языка. Так и стало: моя филологическая специальность – история русского языка.
Впрочем, мои художественные расхождения с руководящим идейным курсом начались раньше. Уже в старших классах школы, когда я стала писать не дежурные стихи, не такие, как нас учили в литературной студии – печатать эти стихи становилось все труднее и, наконец, совсем невозможно. Когда в 17 лет я принесла очередную стопку стихов в «Комсомольскую правду» (там был такой поэтический раздел «Алый парус»), человек, который прежде охотно все брал в печать, сказал: «А это мы напечатаем после твоей смерти». Вообразите: в 17 лет такое услышать! Естественно, это были нисколько не «протестные» или политические сочинения. Просто – все не то. Идеализм, формализм, пессимизм, субъективизм … что еще? Неоправданная усложненность. Так что довольно рано стало понятно, что путь в литературу для меня закрыт, да я туда не очень и стремилась.

– То есть вы не были амбициозны…
– Я, наверное, была очень амбициозна. Настолько, что мне было неважно – печатают меня или нет. Мои амбиции заключались в том, чтобы написать «шедевр», а что с ним дальше будет – это уже другой вопрос.
– А как вы определяли – шедевр получился или нет?
– По собственным ощущениям, прежде всего. Мне кажется, каждый автор знает, что у него получилось. Существует ли то, что он написал, на самом деле, в каком-то бессмертном пространстве – или это еще одна вещь с конвейера «литературы». Слово «шедевр» я употребляю, конечно, условно.
Другая жизнь
Я всерьез училась на филологическом факультете, на русском отделении, выбрав специализацию «язык», а не «литература». В лингвистику к этому времени идеология не вмешивалась.
 Время в МГУ было чудное, самый конец 60-ых – начало 70-ых. Можно было услышать лекции Аверинцева, Пятигорского, Мамардашвили (все это были факультативы). Мы ходили на курс О.С.Поповой по византийскому искусству на Истории искусств. Я занималась в семинаре гениального фонетиста М.В.Панова, а потом, когда его выгнали (началась чистка диссидентских настроений после Пражских событий), в семинаре по славянским древностям у Н.И.Толстого.
Время в МГУ было чудное, самый конец 60-ых – начало 70-ых. Можно было услышать лекции Аверинцева, Пятигорского, Мамардашвили (все это были факультативы). Мы ходили на курс О.С.Поповой по византийскому искусству на Истории искусств. Я занималась в семинаре гениального фонетиста М.В.Панова, а потом, когда его выгнали (началась чистка диссидентских настроений после Пражских событий), в семинаре по славянским древностям у Н.И.Толстого.
Аверинцев вел «секретный» семинар по библейским книгам в Горьковской библиотеке. От того смыслового простора, который все это открывало, захватывало дух. Мы зачитывались тартускими публикациями, обожали Ю.М.Лотмана, говорили на структуралистском жаргоне.
Еще студенткой я побывала на конференции в Тарту – с докладом про структуру погребального обряда славян. Общество филологов, культурологов, философов, музыкантов мне было интереснее, чем писательский мир. Он был мне чужим – и в его официозном, и в его богемном, ЦДЛ-ловском варианте. После Аверинцева! Рядом с Лотманом!
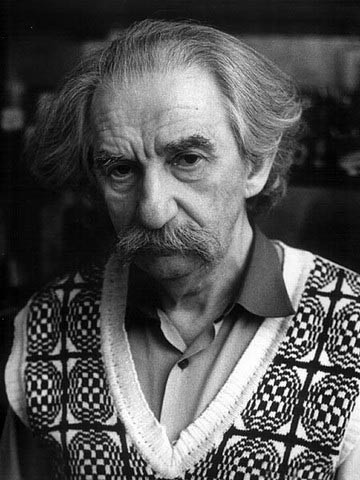
Конечно, на филфаке был доступен весь самиздат, так что уже на первом курсе я читала Бродского – раннего Бродского. Самиздатским оставался весь Мандельштам после «Камня», ахматовский «Реквием», «Доктор Живаго», большая часть сочинений Цветаевой. Но мы все это уже знали и любили.
Где-то в 70-е стала складываться «вторая культура», иначе «догутенберговская словесность». Неподцензурная литература. С ней у меня установились связи, особенно с питерскими кругами.
У нас были общие ориентиры, мы читали, смотрели и слушали одно – и, соответственно, не читали, не смотрели, не слушали тоже одно. Никто из нас, например, не смотрел телевизор и огромная часть советской культуры прошла мимо нас (или мы мимо нее). Но об этом круге, о Викторе Кривулине, Елене Шварц, Сергее Стратановском в Питере, Александре Величанском в Москве я писала. О Венедикте Ерофееве, который вел совсем особую, не литераторскую жизнь и с которыми мы общались долгие годы, я тоже писала не раз. Мои друзья – поэты, художники, музыканты – к реальной политике относились довольно равнодушно. Они занимались своими делами. «Уже год торчу на Леонардо», как сообщал Кривулин.
И в каком-то смысле это была интересная историческая возможность – жить за пределами цензуры, за пределами публикаций. Но эта жизнь была для многих невыносима, и они кончали с собой – прямо, как Сергей Морозов (его книжка до сих пор не выходила; сейчас ее составил Борис Дубин) или косвенно, губя себя запоями, как Леонид Губанов. Трудно смириться с тем, что решено, что тебя нет. Что ты ни делай, что ни пиши – тебя нет, и даже имя твое публично поминать нельзя. Об этом я рассуждаю в «Путешествии в Брянск».
Последней попыткой выяснить отношения власти со свободным поэтом был процесс Бродского. С теми, кто был младше, уже обходились без процессов – их просто не упоминали. Это, как оказалось, более эффективный метод доконать поэта. Многие этого не выдерживали.
Конечно, жизнь в «андеграунде» долго не может продолжаться. Нужна открытость, нужен свежий воздух.
И подпольные судьбы черны, как подземные реки… (В.Кривулин).
То, что я говорю, многие шепчут, другие думают…
– Вы попали в этот круг в студенческие годы?
– Даже в старших классах школы. Трудно проследить, как люди знакомились. Это был совершенно стихийный процесс, также как и самиздат, который никем ведь не был организован.
И когда меня как-то вызвали на Лубянку и расспрашивали, каким образом работает самиздат, я им честно сказала, что не знаю. Да и никто не знал. Но благодаря самиздату, можно было понять действительный вкус читателей: то, что не нравилось, никто не стал бы перепечатывать, размножать – еще и с некоторым риском для себя.
Самиздат – это, собственно, практическое выражение читательской любви. Не автор, а читатель берет на себя роль издателя. И когда ко мне приезжали читатели моих стихов в самиздатских списках – а к концу 70-ых их было уже много – меня это всегда поражало.
Вот представьте, работает огромная машина: пресса, цензура, телевидение – и вдруг откуда-нибудь, с Дальнего Востока, появляется читатель с моей перепечатанной книжкой! Иногда еще художественно переплетенной и иллюстрированной. Я была уверена, что именно в этом сила искусства: с ним не справишься, потому что справляться нужно с его читателем. Как писал Данте: «То, что я говорю, многие шепчут, другие думают и т.д.».

90-ые
– Но сейчас ведь такого «запроса» нет? Почему?
– Не знаю. Пусть кто-нибудь попробует написать то, чего в самом деле, в самой глубине люди ждут – тогда увидим, не заработает ли старая голубиная почта самиздата.
– Не получилось ли так, что с началом перестройки хорошей литературой заведомо стали называть то, что когда-то было запрещено?
– Дело в том, что настоящие, хорошие вещи, которые создавались в 70-ые, так и не вышли на поверхность: произошла какая-то перетасовка, появились новые авторы, совсем не те, которые были запрещены. Или из запрещенных – их «низовые» пласты: соцарт, разные пародийные движения. А серьезных вещей так до сих пор не знают.
– Кто так и не вышел? Кого не знают?
– Общие знания о неподцензурной поэзии, по-моему, кончаются на Бродском. Его все знают, последующие поколения знают гораздо больше в других странах, чем у нас. Я лично читала два раза курс «Русская поэзия после Бродского» в университете Висконсина и в Стэнфорде.
И у меня не было впечатления, что я говорю с людьми, у которых нет никаких знаний и представлений об этом. Мы не начинали с чистого листа. Преподаватели и студенты что-то уже знали, многие авторы у них даже входили в программу курса русской литературы, о них пишут дипломы, диссертации. Вот некоторые имена.
Только что, например, вышел большой двухтомник Александра Величанского. Разве о нем говорили в 90-ые годы? В Ленинграде год назад умерла
Она – редкий, великий поэт. Представляет ли это читатель, которого называют «широким»?

В моем курсе было двенадцать авторов, каждому посвящалась отдельная лекция, начиная с Леонида Аронзона, ровесника Бродского. Все это поэты очень серьезные, но здесь что-то случилось, произошел какой-то сбой, и литературное пространство наполнилось совершенно другими именами, другими интересами, другими сочинениями.
– Но где эта точка? Почему произошел этот сбой?
– Не возьмусь сказать. Скучно разбираться. Но к какому-то моменту «современным» и «актуальным» было решено считать нечто очень определенное. По сути, никакой регуляции здесь не было.
– А она может вообще существовать – эта регуляция?
– Упаси Боже, должна быть свобода возможностей, как это было в самиздате: читатели сами читают и выбирают, что им нравится. И конечно, сама «вторая культура» кончилась с эпохой либерализации, Все вроде стало разрешено и люди разъехались, рассыпались. Но победила отнюдь не запрещенная литература. Победили, это как ни странно, низы советской культуры, соцреализм второго сорта.
– Но это же не отменяет существование другой культуры и музыки. И не получается ли так, что сейчас она снова в каком-то подполье?
– Да, она все эти годы существует не в подполье, а в тени. С большим шумом проходят ничего не стоящие вещи, а серьезные остаются – почти как в советское время – незамеченными. Но, насколько я чувствую, воздух страны меняется, появляется другой запрос.

Self-made учителя
– А кто на Вас больше всех повлиял?
– Да, их очень, очень много. В этом отношении мой случай довольно необычный: многие мои знакомые характеризуют себя как self-made men (или women), как люди, сделавшие себя сами. А со мной все было прямо противоположным образом: у меня учителя появились со школьных лет, лучшие учителя, каких только можно представить! Я всегда себя чувствовала человеком, выработанным многими руками, начиная с первого моего учителя фортепиано Михаила Григорьевича Ерохина. И хотя он понимал, что я не буду пианисткой, он посвящал меня в самую глубину искусства – любимого искусства, а не ремесла – давал читать какие-то книги, и задавал такие, например, задания – чтобы сыграть данную пьесу, пойти в музей Пушкина или в Третьяковку и посмотреть такую-то картину. Сам он учился в консерваторской школе для одаренных детей, где преподавал Г. Нейгауз.

Видимо, их прекрасно учили. Нейгауз заботился о том, чтобы из этих молодых пианистов делать не победителей международных конкурсов, а музыкантов в серьезном смысле. Они прекрасно знали поэзию и живопись. Я думаю, в поэзии он научил меня больше, чем в пресловутой литературной студии. Я поняла, что такое композиция. Это он впервые прочел мне Рильке, переводя с немецкого. И Рильке стал главным поэтом моей юности. Чтобы прочесть его в оригинале, я стала учить немецкий. А чтобы прочесть Данте – итальянский.
Потом уже, в университете, у меня были изумительные профессора – Никита Ильич Толстой, у которого мы занимались славянскими древностями: и языческой архаикой, и церковной славянской традицией.

Это была школа. Никита Ильич, правнук Льва Николаевича Толстого, родился и вырос в эмиграции и вернулся в Москву, закончив гимназию в Белграде. В нем мы жадно вглядывались в другой мир – мир той России, которой больше нет. Он был строгий позитивист в науке, а в быту любил эксцентрику. Представьте себе: Закон Божий ему преподавал о.Георгий Флоровский!
Был Михаил Викторович Панов – фонетист, действительно великий ученый. У него было совсем другое направление, он – духовное дитя классического авангарда, обожал Хлебникова и эксперименты 1910-20-ых годов, сам любил языковую игру. На его семинаре лингвопоэтики мы занимались отношениями живописной и поэтической формы. О нем у меня тоже есть проза – «Наши учителя. К истории русской свободы».
Аверинцев
Но важнейшим для меня учителем стал Сергей Аверинцев. И тот же припев: и о нем я писала, и немало, и повторять сказанное мне не хочется. И, конечно, роль Сергея Сергеевича как христианского проповедника – невероятна, его воздействие на наше тогдашнее просвещенное общество огромно.

– То есть он читал свои лекции и одновременно проповедовал?
– Вы представляете, что в 70-е можно было читать проповеди с кафедры? Люди крестик боялись носить. Его лекции и были проповедью, совсем другого рода, чем у наших последующих «духовных просветителей». Он всегда избегал прямого морализаторства, он не считал своего слушателя ребенком или полным невеждой, чтобы его поучать: он увлекал красотой и силой христианской мысли. Многие благодаря ему пришли в церковь. Благодаря иным нынешним проповедникам впору из нее бежать.
Это было не популяризаторство, а совместная работа, глубокая, осмысленная, современная, связанная с новейшими открытиями библеистики. Необходимые цитаты из латинских и греческих Отцов он приводил в собственном переводе. Он мог бы создать школу и в классической филологии, и в библеистике и в общей теории культуры, что называется, Geisteswissenschaft. Все это сейчас как будто не востребовано. И это трагический факт. Сергей Сергеевич Аверинцев – великий дар всей российской культуре. Кажется, она этого дара принять пока не может.
Я чувствую себя его ученицей, но не в поэзии, а в мысли. Он для меня был камертоном, по которому я сверяла ход мысли. Для этого требовалось преодоление наших привычек к незаконным обобщениям, безответственным высказываниям. Обработанная, точная мысль – вот его школа. Он говорил: «Переспрашивайте себя сами и будьте готовы ответить на вопрос, который может возникнуть к этому утверждению»
Удивительно в нем и то, что, филолог-классик, он любил поэзию модерна. Ведь обычно классики не чувствуют ее, это для них чужой мир. От него я узнавала о европейских поэтах ХХ века – о Клоделе, Элиоте, Целане.
О. Дмитрий Акинфиев
А вот здесь я не могу сказать: я о нем писала. Я так и не нашла, как о нем писать. С его образом для меня связано все, что я люблю в нашей церкви. Отношения с духовным отцом – особая область. Говорить о ней, не профанируя, не менее трудно, чем говорить о вдохновении. Мой духовный отец – протоиерей Дмитрий Акинфиев, в последние годы настоятель Николы в Хамовниках. Мы встретились, когда мне было немного за двадцать. Тогда он был настоятелем другого храма. И до самой его смерти – а умер он три года назад, – он был моим духовным отцом. Он действительно менял мой душевный состав, причем так, что я и сама не заметила, как стала другим человеком.

– Как вы познакомились?
– Можно сказать, случайно. В детстве бабушка брала меня в церковь, но в школьные годы я и думать об этом не думала. А потом, когда я стала «по-настоящему» писать стихи, в конце школы меня опять потянуло в храм.
Я не могу сказать, чтобы я переживала какое-то обращение, как те, о которых иногда рассказывают. Мне казалось, что я и не была совсем вне, и не буду, как я решила для себя, совсем внутри. Но постепенно я все больше и больше подходила к серьезному участию в церковной жизни. Поначалу это было скорее художественным переживанием: я любила пение, красоту богослужения… Но ходила все чаще и, по совету бабушки, стала исповедоваться и причащаться – лет в 19. У какого священника это делать, мне было все равно.
И наконец я встретила отца Димитрия. Надо признаться, я никогда не думала, что мне нужен духовный отец: я ведь считала себя поэтом. Ну какой духовный отец может быть у Бодлера или у Пушкина? Свои проблемы каждый решает сам, думала я, кто мне может помочь? Но тут, иначе не скажешь, Бог даровал мне духовника. И в его лице я узнала то глубочайшее православие, которое люблю, и которое, на самом деле, встречается очень редко…
Его называли «московским старцем», имея в виду особый дар прозорливости (который он очень неохотно обнаруживал). На его отпевании (там было больше ста московских священников) одна простая старушка громко сказала: «Добрый был он священник и скромный, а отца его коммунисты замучили». Однажды он при мне довольно долго объяснял какой-то женщине, что лучше ей не идти к Причастию, если она не готова. И эта женщина отошла от него совершенно радостная и сказала: «Как будто и причастилась!» Такая сила присутствия. Поговорив с ним почти ни о чем, я каждый раз возвращалась с чувством этого как бы причастия, как бы отпущения грехов. Предание – это ведь личная передача из рук в руки. Это встреча.
Сама и решай
Конечно, каждый человек, который приходит в новый для него мир – в мир церковный и православный – думает, что все надо как следует выучить, и сам требует инструкций. И у меня тоже было такое настроение, может быть не в такой степени, как у других, но я тоже требовала у отца Димитрия каких-то решительных инструкций. На что он мне говорил: «Сама решай, почему я должен это тебе сказать? Что я такого знаю, что ты не знаешь?». Знал он очень много. Бездна между моим знанием и его меня всегда поражала.
И еще, как ни странно, он меня примирил с землей. У меня была наклонность к спиритуализму, к отвержению всего земного, всего плотского, в крайней степени. В юности такое бывает. Но отец Димитрий неприметно показал мне, как это некрасиво, как в этом нет благодарности Богу за все сотворенное. Что в таком «аскетизме» нет добра, нет любви. Тихо и мягко он примирил меня с вещественным миром, с обычной жизнью. Незаметно… Он любил красоту. Однажды старушки обратили его внимание на «местный культ»: молодые люди приходили к одной иконе со свечами и совершали какие-то странные ритуальные действия. Как выяснилось, они считали, что эта икона «помогает в любви». Батюшка, выгоните их! – требовали свещницы. Отец Димитрий вроде бы их послушал, стал медленно к ним приближаться… вдруг остановился и обернулся к стражницам благочестия: «Да вы посмотрите, какие они красивые!» Нужно ли говорить, что старушки его не поняли. Красивые!

Постепенно я увидела, что искусство и церковная жизнь могут быть близки, как во времена Данте, и что это дает искусству другую глубину и широту. Постепенно я это поняла и как творческую тему.
Слава Богу, я была доверчива и слушала его, потому что можно было всего этого не услышать и ничего не воспринять. Он не пользовался такой славой в интеллигентских кругах, как о. Александр Мень. Он был традиционный батюшка, его отец был сельский священник, погибший в лагерях, так что он, можно сказать, – сын святого. Он – дитя гонимой Церкви, Церкви, для которой многие поверхностные вещи перестали быть важны, но очень важно – я бы сказала, по-новому важно – стало то, что действительно серьезно. Отец Димитрий называл это сердцем. Не то, что человек сделал, не то, что он сказал, – ему было важно, какое у человека сердце. Потому что, как сказано, из сердца все исходит.
Другие церковные люди, которых я встречала в юности, – его ровесники, и даже старше – были в этом похожи на него. Ведь гонения были и очищением Церкви от внешних вещей. И особенно обидно, что этот бесценный опыт забыт, и новые православные начинают мелочиться и высчитывать, что «соблюдать», а что «не соблюдать».

– Какими были те люди? Были ли они обижены на советскую власть? Звучал ли в них протест?
– Они были очень мирные люди. Естественно, у них отношения с советской властью были выяснены еще до лагерей. В этих людях чувствовался – можно так назвать – соборный дух, дух Собора 17 года. Не было никакой стилизации, архаизма. Они, надо сказать, не очень доверяли новым людям, которые приходили в церковь, потому что после такого опыта, который они пережили, боялись «комсомольцев»… И только с очень немногими людьми у них налаживались связь. И потому люди, приходящие в церковь, могли не встретиться по-настоящему с теми, кто там был всегда, с теми, кто действительно выдержал все эти годы, с исповедниками. Бесчеловечность, которая стала у нас нормой в советские годы, присутствует сейчас и в церкви. И советская тяга к силе. А христианство на стороне униженных, а не сильных.

Вторая жизнь
В самом конце 1989-го года я впервые оказалась за границей, сразу в трех странах: в Финляндии, Англии, Италии. К этому времени у меня вышел первый сборник стихов в Париже, в ИМКА-пресс (1986), стихи стали переводить, включать в антологии. Поэтому я и оказалась во всех этих странах. И все последующие годы в моих странствиях меня вели стихи: где что-то выходило, туда меня и приглашали. Этот первый выход за «железный занавес» так сильно многое изменял, что дальнейшее можно было бы назвать «второй жизнью» или даже, как сказала Елена Шварц, «жизнью после жизни».
– Какие были ощущения? Чудо?
– Мы очень любили мир европейской культуры и заочно многое о нем знали. Аверинцев, который тоже поздно оказался в Европе, мог быть гидом по многим европейским городам. Он, и не видя, знал эти места и их историю лучше, чем местные жители. И вот вдруг она перед тобой – эта платоническая реальность, состоявшая из одних имен! М.Л.Гаспаров, впервые оказавшись в Риме, не хотел выходить из автобуса. Он боялся реальной встречи с тем, о чем думал всю жизнь. Но об этом переломе я тоже много писала, и пересказывать себя скучно.
Когда английские журналисты спрашивали меня: «Что вы чувствуете, впервые оказавшись здесь?», я говорила: «Я сравнила бы это с чувством школьника на летних каникулах: тебя отпустили и никто за тобой не смотрит». Недоверие, настороженность, чувство того, что наш мир – это такой мир, где ты поднадзорный и тебя могут призвать к ответу в любое время и без всякого повода – вот все это было здесь ни к чему.
С этого времени для меня действительно началась другая жизнь. В 90-е годы я, наверное, половину времени проводила в разъездах. Иногда жила довольно подолгу в разных местах. Когда меня приглашали гостящим поэтом (poet in residence) в университет Киля в Англии, два триместра – от Рождества до июля – я там жила. Это совсем другое, не гастрольное, не туристическое знакомство со страной. Так же я жила и в других местах. Не только в Европе, но и в Америке. На Сардинии, где в течение двух лет я была гостем университета и жила четыре месяца в год. Это не так-то легко, это тоже школа.
– Что именно трудно?
– Начать с языка. Живых языков мы не знали. Мы изучали живые языки, как латынь – только чтобы читать. Когда я приехала в Англию, то с ужасом поняла, что я ни слова не понимаю из того, что говорят, ни слова! Я просила их писать или говорить медленно. А английским я занималась с детства, и много на нем читала. А мне каждый раз приходилось на этом языке не просто объясняться кое-как, а работать, читать лекции на английском и итальянском.
– Как же? Если вы даже сначала не понимали? Как же вы справлялись?
– Говорить легче, чем понимать Главное, чтобы тебя понимали. Меня понимали. А потом и понимать подучили – дали записи уроков реального произношения, регулярных сокращений звуков, когда takem значит take them. С итальянским не так, его мне как раз легче было понимать, чем говорить на нем. Я слышала живой итальянский в Москве. У меня еще в советское время была подруга-итальянка, которая в университете преподавала итальянский язык и литературу, поэтому я знала, что такое живой итальянский, в отличие от живого французского и живого английского.
Искусство, арт и актуальность
Когда я впервые ходила по улицам Лондона, мне казалось, что я не по земле хожу, это была какая-то левитация. Потом, естественно, ты видишь вещи ближе, видишь другие стороны, понимаешь, что там свои трудности и опасности. Я постоянно навещаю одни и те же страны, и вижу, как улетучивается старая Европа, краешек которой (еще не объединенной Европы) я успела застать.
– С чем это связано? Во всем мире происходит некая унификация?
– На наших глазах происходит исторический перелом, новое Великое переселение народов. Я читала где-то, что каждый третий сейчас — мигрант. Не обязательно мигрант из Индии в Лондон, даже внутри страны происходит непрерывное перемещение людей. Когда-то европейская жизнь была оседлой, и вот она кончилась. Новоприбывшие уже не станут местными. Впрочем, об утрате корней Симона Вейль писала еще до эпохи переселения.
Однажды в Риме на улице я познакомилась с корейским священником и корейскими монахинями, мы с ними разговорились по-итальянски. Они учились в Риме и пригласили поехать вместе в Ассизи.Когда мы проезжали через Флоренцию, я предложила: «Давайте зайдем в тот дантовский храм, где похоронена Беатриче?». А они говорят: «А кто это?». Их обучили всему, что относится к церковной католической культуре, а про Беатриче они не слышали. Это новые европейцы.
А актуальное искусство? Несчастье. Прошлым летом на международном Берлинском фестивале поэзии – а это один из самых престижных фестивалей – я видела во всей красе эту актуальную поэзию… Среди приглашенных двенадцати авторов только трое писали стихи словами – все остальное было Sound – Poetry.
– То есть, звукопись?
– Да, они издавали звуки — кричали, пищали, били в какие-то кастрюли. Вот тут я поняла, что конец приближается! Конец европейского света.
Страхи
– Страх перед аудиторией и перед публичными выступлениями, он есть и был ли, здесь и вообще? Как вы себя переламываете?
– Такого страха у меня нет и никогда не было. Может быть, потому что в вундеркиндном детстве я привыкла выходить на публику. Но совсем этого не люблю. Я, видно, все-таки человек не артистического склада, потому что успех не приносит мне такой радости, как артистам и поэтам-артистам.
Как-то мы оказались в Финляндии с Беллой Ахмадуллиной и вместе выступали в Хельсинки. Я видела, как она просто наполнялась жизнью, когда слышала отклик аудитории. Дмитрий Александрович Пригов тоже признавался, что если он не почитает на публике неделю-другую, то у него начинается голодание. У меня этого нет и никогда не было. Я не хочу успеха и не боюсь провала. Мой страх и мой восторг в другом месте.
– А вообще чего боитесь больше всего?
– Не знаю. Или не скажу.
Итог подводит не автор

– Ваш четырехтомник – итоговый?
– Надеюсь, нет. Во-первых, не все, что я уже написала, в него вошло. Во-вторых, я надеюсь еще что-то сделать.
Вообще говоря, итог подводит не автор, а кто-то другой. Тот, кому видно то, чего не видит автор. Автор не видит многого. Он не перестает быть автором – то есть, лицом ответственным за текст. Чувство требовательности заслоняет все другие, ты видишь только то, что не удалось, что надо бы исправить… Целое видит тот, кто стоит на месте адресата этого письма, – читатель. Только благодаря музыке я смогла оказаться на месте адресата собственных сочинений. Когда я слушаю музыку, написанную на мои стихи Александром Вустиным и Валентином Сильвестровым, только тогда я слышу собственные слова. Только тогда они говорят мне – и порой удивляют тем, что сообщают.
Произведение довершается в другом. Тереза Маленькая писала, что она чувствует себя кисточкой в руках Бога, а рисует Он этой кисточкой для других. Художник, поэт тоже нечто вроде кисточки, и пишут этой кисточкой не для него. Его работа, его вдохновение довершается в другом человеке и совсем в другом месте.
Фотографии Анны Гальпериной и из открытых источников
Ольга Александровна Седакова
Ольга Александровна Седакова родилась в Москве 26 декабря 1949 года в семье военного инженера.
В 1967 году Ольга Седакова поступает на филологический факультет МГУ и в 1973 году заканчивает его с дипломной работой по славянским древностям. Не только стихи, но и критика, филологические работы Ольги Седаковой практически не публиковались в СССР до 1989 года и оценивались как «заумные», «религиозные», «книжные». У отверженной «второй культуры» тем не менее был свой читатель, и достаточно широкий. Тексты Ольги Седаковой распространялись в машинописных копиях, публиковались в зарубежной и эмигрантской периодике.В 1986 году вышла первая книга в издательстве YMCA-Press. Вскоре после этого стихи и эссеистика стали переводиться на европейские языки, публиковаться в различных журналах и антологиях и выходить в виде книг. На родине первая книга («Китайское путешествие») выходит в 1990 году.К настоящему времени издано 27 книг стихов, прозы, переводов и филологических исследований (на русском, английском, итальянском, французском, немецком, иврите, датском языках; готовится шведское издания).С 1991 года сотрудник Института мировой культуры (философский факультет МГУ).* Кандидат филологических наук (диссертация: «Погребальная обрядность восточных и южных славян», 1983).* Доктор богословия honoris causa (Минский Европейский Гуманитарный Университет, факультет богословия, 2003).* Автор «Словаря трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы» (Москва, 2008).* Офицер Ордена Искусств и словесности Французской Республики (Officier d’ Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, 2012).
Ольга Александровна Седакова родилась в Москве 26 декабря 1949 года в семье военного инженера. В школу пошла в Пекине, где отец в это время (1956-1957 годы) работал военным инженером. Семья была далека от гуманитарных интересов, поэтому важнейшая роль в её жизни с самого начала принадлежала учителям и друзьям. Первым из таких учителей был пианист М.Г. Ерохин, открывший ей не только музыку, но живопись, поэзию, философию; от него впервые она услышала поэтов Серебряного века и ещё неопубликованного по-русски Рильке.
В 1967 году Ольга Седакова поступает на филологический факультет МГУ и в 1973 году заканчивает его с дипломной работой по славянским древностям. Отношения ученичества связывали ее с С.С. Аверинцевым и другими выдающимися филологами – М.В. Пановым, Ю.М. Лотманом, Н.И. Толстым. В круг ее филологических интересов входят история русского и старославянского языков, традиционная культура и мифология, литургическая поэзия, общая герменевтика поэтического текста. Чувствуя, что в эпоху «железного занавеса» и информационной блокады возможность читать на других языках насущно необходима, Ольга Седакова изучила основные европейские языки. Это помогло ей в дальнейшем зарабатывать обзорами новейшей гуманитарной литературы (в 1983 – 1990 годах она работает референтом по зарубежной филологии в ИНИОНе) и переводить «для себя и знакомых». Переводы из европейской поэзии, драмы, философии, богословия (английские народные стихи, Т.С. Элиот, Э. Паунд, Дж. Донн, Р.М. Рильке, П. Целан, Св. Франциск Ассизский, Данте Алигьери, П. Клодель, П. Тиллих и др.), сделанные без мысли о публикации, в последние годы выходят в свет.
Стихи Ольга Седакова начала сочинять с первых лет жизни и довольно рано решила «быть поэтом». С того момента, как её поэтический мир приобрел определённые очертания (формальные, тематические, мировоззренческие), стало очевидно, что этот путь радикально расходится с официальной словесностью, как пути других авторов этого «послебродского» поколения Москвы, Ленинграда и других городов: В. Кривулина, Е. Шварц, Л. Губанова (с которыми её связывала личная дружба). Во «второй культуре» 70-х годов обретались не только литераторы, но художники, музыканты, мыслители… Там шла интенсивная творческая жизнь, которая только отчасти вышла на свет во времена либерализации.
Не только стихи, но и критика, филологические работы Ольги Седаковой практически не публиковались в СССР до 1989 года и оценивались как «заумные», «религиозные», «книжные». У отверженной «второй культуры» тем не менее был свой читатель, и достаточно широкий. Тексты Ольги Седаковой распространялись в машинописных копиях, публиковались в зарубежной и эмигрантской периодике.
В 1986 году вышла первая книга в издательстве YMCA-Press. Вскоре после этого стихи и эссеистика стали переводиться на европейские языки, публиковаться в различных журналах и антологиях и выходить в виде книг. На родине первая книга («Китайское путешествие») выходит в 1990 году.
К настоящему времени издано 57 книг стихов, прозы, переводов и филологических исследований (на русском, английском, итальянском, французском, немецком, иврите, датском, шведском, нидерландском, украинском, польском).
В конце 1989 года Ольга Седакова впервые выезжает за рубеж. Последующие годы проходят в постоянных и многочисленных поездках по Европе и Америке (участие в фестивалях поэзии, конференциях, книжных салонах, преподавание в различных университетах мира, публичные лекции).
С 1991 года сотрудник Института мировой культуры (философский факультет МГУ).
* Кандидат филологических наук (диссертация: «Погребальная обрядность восточных и южных славян», 1983).
* Доктор богословия honoris causa (Минский Европейский Гуманитарный Университет, факультет богословия, 2003).
* Офицер Ордена Искусств и словесности Французской Республики (Officier d’ Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, 2012).
* Академик Академии «Sapientia et Scientia» (Рим, 2013).
* Академик Амвросианской академиии (Милан, 2014).
Зачем нужна апология разума? Воспринимает ли автор всё написанное как единое целое? И как это целое организовано? Перевод стихов — учёба и аскеза? Ольга Седакова рассуждает о самом главном.
Помимо того, что Ольга Седакова самый, может быть, значительный русский поэт нашего времени, она ещё и один из наиболее глубоких мыслителей с очень цельной и в своём роде одинокостоящей — по крайней мере, в России — интеллектуальной позицией.
Евгений Клюев о том, что лингвистическая иммиграция — это не географический, а метафизический феномен. В эпоху информационного хаоса и тотальной инфляции слов она не мешает, а даже помогает писателю хранить Язык в чистоте, в том его первозданном дыхании, каким он даётся свыше.
«Поэт, прозаик, переводчик, филолог, этнограф…» — представляют её энциклопедии. «Философ» не встречается в таких представлениях ни разу, между тем оно очень напрашивается, даже если сама Ольга Александровна никогда себя так не называла.
Поэтому в разговоре хотелось прояснить некоторые черты цельности, лежащей в основе и поэтической, и аналитической её работы, и принципы, по которым эта цельность строится.
Ольга Александровна, то, что вы делаете во всех областях своих занятий, относится к кругу задач философии. Я бы назвала это прояснением отношения человека с основами бытия, а поэзию — разновидностью человекообразующей работы.
В моём понимании этих предметов вы представляете вариант христианской рационалистической традиции, органичный скорее западной мысли, но и там осуществлённый не вполне — в силу торжества, начиная с эпохи Просвещения, узко понятого «инструментального» рационализма, оставившего за пределами многие стороны человеческой цельности.
Ближе философов к этой традиции чаще оказывались поэты — Гёте и Данте. У нас эту традицию представлял Аверинцев, культивировавший, по вашим словам, «ту новую (древнюю) рациональность», восходящую к Аристотелю, которая «одновременно сопротивление дурному иррационализму и дурному рационализму».- Позвольте для начала прокомментировать ваши слова о «западной мысли».
У нас привычно связывать рационализм с западной традицией и противопоставлять ей русскую, принципиально другую («Умом Россию не понять» и тому подобное).
Наши писатели и мыслители последних двух веков столько говорили об этом, что и европейцы им поверили, и тоже привычно воспринимают русскую культуру как нечто иное, как некую альтернативу рациональному.
В откликах на итальянское издание моей «Апологии разума» два момента вызывали самое большое удивление: что разум защищает поэт (поэзию и разум принято противопоставлять) и что разум нашёл себе адвоката в России, где меньше всего этого можно было бы ожидать.
Однако и сама по себе эта защита разума была воспринята как необычайное — хотя и долгожданное, по мнению рецензентов, — событие. Рационализм (или интеллектуализм), о котором речь идёт в моей книге, — совершенно не то, к чему привык Запад в Новое время.
Дело в том, что классическое (выработанное в греческой античности) представление об уме, нусе, во многом сходящееся с библейской идеей мудрости, вероятно, в большей степени было характерно как раз для восточной патристической мысли (сравните в литургических текстах: «Да буду ум, зрящий Бога»).
Этот ум, составляющий духовный центр человека, совпадал с духом и сердцем (по контрасту с романтическим противопоставлением ума и сердца).
Именно этот ум, мудрость и ставит границы техническому, критическому, спекулятивному разуму, не ведающему чувства меры. Современная культура и российская, и западная живёт плоским противопоставлением такого «разума» и бунтующего против него «иррационального». Вот ситуация, которую мне хотелось рассмотреть — и пересмотреть.
— Есть ли у вас сквозные, всё объединяющие темы?— Я мало могу сказать о собственных сочинениях кроме того, что в них непосредственно сказано. Я много занималась аналитической работой и герменевтикой, но на себя этого взгляда — аналитического, рефлектирующего, истолковывающего — никогда не обращала.
Трудно, конечно, поверить, что человек, который может неделями разбираться, скажем, в версификации «Сказки о рыбаке и рыбке», рисовать схемы её ритма, сам пишет «на слух» и, написав, не выясняет, что это за ритм.
Но со мной так. Граница между «своим» и «другим» проходит резко. Как будто здесь положен необсуждаемый запрет: нельзя разбирать собственные тексты, нельзя строить проекты на будущее… Поэтому мне всегда интересно слышать отзывы других: в них я часто узнаю о своих текстах то, чего сама не замечаю.
Например, говоря, что двухтомник не задумывался как единая книга, я имела в виду простую вещь: он не писался целиком, собран постфактум.
Как целое я обычно задумываю вещи небольшого объёма, такие как «Китайское путешествие», «Старые песни». Из прозы — «Похвала поэзии» задумана отдельной книгой, также и «Путешествия». Во Франции они так и были изданы. У нас издательская традиция таких малых книг, в общем-то, утеряна (а ведь блоковские «Ямбы» выходили как отдельная книга!). Это жаль.
Двухтомник был уже запоздалым собранием разных вещей разных лет. Теперь готовится четырёхтомник, с моей стороны он уже подготовлен, осталась издательская работа. Но мне не перестаёт казаться, когда всего слишком много, вещи мешают друг другу.
С позиции читателя могу сказать, что такая собранность разного в одно даёт цельность взгляда. Можно видеть, что это одна работа понимания в разных обликах.- Меня очень утешает, что вы это видите. Со своей стороны я вижу больше различий.
— Потому что вы знаете, как это возникало.— Ну да, в каждой вещи мне важно, где она начинается и где кончается. И с той и с другой стороны её окружают паузы. Это как бы квант смысла и настроения. С ним одним нужно побыть какое-то время, забыв о прочем.
Но то, что в целом оказывается, что развиваются какие-то общие темы, одни мотивы, одни образы, вообще говоря, не странно. Есть вещи, которые меня занимают всю жизнь.
И не то чтобы я их не оставляю — скорее они меня не оставляют. Но назвать эти неуловимые вещи иначе, чем я их называю именно в этой прозе, именно в этих стихах, каждый раз по-разному, я не могу — потому что, повторяю, я не теоретик себя самой.
И всё-таки вы — носитель как минимум двух типов взгляда: с одной стороны — поэт, с другой — учёный, старший научный сотрудник Института мировой культуры при МГУ…- …с третьей стороны — переводчик, с четвёртой — эссеист… много сторон. Ещё — какой-никакой, но преподаватель. А преподавание и творчество не без основания считают вещами плохо совместимыми. Ещё в самом простом смысле церковный человек. А уж традиционная вера, научное исследование и художественное творчество — это, по привычному представлению, и вообще гремучая смесь.
Как, по вашему собственному чувству, эти разные ваши стороны связаны? Как соотносятся для вас стихи и проза, которые всегда казались мне организованными у вас едва ли не принципиально различно?- К моей первой, ещё студенческой филологической работе я взяла эпиграфом стихи Блока:
Чтоб в рай моих заморских песенОткрылись торные пути.
Не только «моих», вообще «заморских песен». Изначально я видела в исследовании как бы пропедевтику к пониманию художественных смыслов.
Магический реализм по-русски. Маргарита Меклина пишет метафизическую прозу: «Необязательно быть магом, чтобы предсказывать…» Прозаик из Сан-Франциско Маргарита Меклина, лауреат «Русской премии» прошлого года, рассказывает о том, какие впечатления у неё остались от церемонии награждения, и литературных нравах, царящих в Москве, а также о том, каково жить русскому писателю на чужбине и каково это — писать сегодня серьёзную, без каких бы то ни было поддавков прозу.
Но в строгом смысле исследовательской можно назвать только одну мою работу — кандидатскую диссертацию, которая через много лет после защиты вышла в виде книги: «Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян» (М., Индрик, 2004).
Однако и с ней, написанной на жёстком структуралистском языке, не так просто. Вячеслав Всеволодович Иванов, который был моим научным руководителем, на защите начал свою речь с того, что, хотя в этой работе соблюдены все методологические требования «научности», на самом деле она представляет собой инобытие поэзии.
Учёный-этнолог не может таким образом видеть вещи, сказал он. Вероятно, он имел в виду, что вся эта обрядовая реальность описана как бы изнутри, путём приобщения, а не отстранения.
Вы правы: смешение поэзии и прозы, поэтика «поверх барьеров» для меня ничуть не привлекательна. Я хочу в каждом жанре соблюдать его законы и в чужой монастырь со своим уставом не ходить.
Для меня невозможно не только написать, но и подумать, как у Цветаевой — «Мой Пушкин». Гёте или Данте, которыми я много занималась, никогда не «мой Гёте» и не «мой Данте»: они не «мои», мне нужен Гёте как он есть, Данте как он есть.
Я даже люблю жанровые ограничения — свобода для меня располагается в других местах. Предлагать в прозе вместо мысли эффектную метафору для меня недопустимо.
Но родной, изначальный язык для меня — образный. Не язык, само восприятие. Помните, Наташа у Толстого говорит, что Пьер «красный и синий»? Дискурсивному изложению я долго училась, и с большим трудом.
Но все эти формальные ограничения в любом случае возникают уже на следующем шаге: сначала появляется чувство предмета, а уже затем идёт оформление этого чувства.- Тем более, что эти предметы — общие предметы, о которых я думаю всегда, — настолько неуловимы, что для них трудно найти жанр и даже способ мысли: дискурсивный или образный? И поэтому, пожалуй, внешние ограничения даже помогают каким-то образом «заземлить» это мерцающее восприятие.
— Настраивают его?— Как будто наводят резкость. Но всё равно каждый раз получается что-то частичное. Один ракурс этого целого.
То есть существует некоторая цельность понимания и видения и набор оптических средств, позволяющих по-разному на неё взглянуть…- Конечно, сквозь одни линзы мы увидим одно, сквозь другие — другое. Но я уверена, что эти вещи, занимающие меня, универсальны — настолько универсальны, что могут быть выражены и за пределами словесности. Если бы я занималась музыкой или живописью всерьёз (а здесь я дилетант), я работала бы с теми же смысловыми единицами.
Они относятся к тому уровню, которого, вероятно, искал Гёте: к чему-то вроде общей морфологии. Они могут быть переданы и в пластических образах, и в музыкальных, и в словесных. И даже, может быть, в математических.
Кстати о переводах. У вас большой и разнообразный опыт: от, условно говоря, Теодульфа Орлеанского до Пауля Целана. Эти переводы тоже складываются в цельную картину. Вы отбираете авторов для перевода по критерию некоторого внутреннего родства? Или скорее собственных задач в «работе понимания»?- Прежде всего, этот ряд можно хронологически продлить и назад, и вперёд. Задолго до Теодульфа — классическая античная поэзия: я переводила кое-что из Горация, из Катулла и много-много лет думаю о переводе моей любимой Сафо. А после Целана — Филипп Жакоте, последний живой классик французской поэзии.
Кроме того, я переводила не только поэзию, но и философию: например, Пауля Тиллиха, его большую книгу «Мужество быть»; духовные сочинения — проповеди, жития. В огромном, больше тысячи страниц, томе «Истоки францисканства» я перевела треть — всё, что связано с самыми ранними источниками и сочинения самого Франциска.
Я никогда не была профессиональным переводчиком, который систематически переводит и живёт этим трудом. Да, вы правы: это работа понимания. И не только понимания того, что написали другие, но ещё, быть может, важнее: понимание возможностей русского языка, своего языка. «Если бы Рильке писал по-русски, каким стал бы русский язык?»
— Это, видимо, способ интенсивного чтения?— Да. И расширение речевых возможностей, борьба с собственным косноязычием. Больших поэтов, таких как Рильке, Целан я выбирала не потому, что они были мне «близки», а потому, что они умели делать то, чего я не могла, что я только предчувствовала. Я ловила в них недостающее мне пространство.
— Значит — хотя бы прожить их опыт отчасти в своём языке?— Да, и я полагала, что этого опыта недостаёт не только мне лично, но и вообще русской поэзии, русскому читателю. Почти весь ХХ век, во всяком случае, с 20-х годов, мы были изолированы от мировой культуры. И многое из того, что сделано в ХХ веке, до нас просто не дошло; тем более что «мои» авторы были просто запрещены.
Например, Клоделя напечатать было невозможно; Целана до какого-то времени тоже. По разным причинам: кто слишком религиозный, кто — формалистский, кто — заумный и элитарный и так далее. И все явно не «прогрессивные». Мои авторы в это ушко «прогрессивности» никак не проходили. Я не нарочно выбирала «реакционных», почему-то так фатально получалось: опубликовать то, что мне нравилось, было невозможно.
Конечно, в каком-то смысле такие переводы — и ученичество тоже. Особенно в случае Рильке. К Рильке я относилась как к лучшему уроку лирики. Зарубежные читатели сразу улавливают во мне «рильковскую ноту». Рильке вообще, как известно, был учителем наших лучших поэтов ХХ века — Пастернака, Цветаевой. Даже молодая Ахматова переводила Рильке. И эта любовь и ученичество были взаимны. Сам Рильке, по его признанию, нашёл себя в России; и русскую поэзию тянуло к нему, как на родину.
С Клоделем — другое дело: это галльская, очень католическая стихия, для нас далёкая и непривычная.
— Он, видимо, из тех, кто дался труднее? При такой-то чуждости…— Нет. Когда что-то интересно и увлекательно, это совсем не так трудно. Я понимала, что, работая с Клоделем, от некоторых уже автоматических привычек нужно решительно отказаться.
Если Рильке можно переводить с русскими стихотворными привычками, то здесь необходимо радикально переменить и тон, и слог. И это тоже своего рода учёба.
У Клоделя я не училась ни его версификации, ни вообще чему-либо конкретному: скорее самой возможности более ясного и определённого высказывания, чем это у нас в поэзии обычно принято. Никакого «цветного тумана», всё при свете ясного дня. И этот свет не обличает предметы, а наоборот, открывает всю их красоту.
Мне казалось, что русской поэзии просто трагически не хватает Т.С. Элиота — самого влиятельного послевоенного поэта Европы. Вот его переводить мне было очень трудно. Эта сухость, эта аскеза по отношению ко всему традиционно «поэтичному». Но при этом — поэзия высокого строя, «новый Данте».
И последним таким поучительным для меня новым поэтическим опытом был Пауль Целан. Великий послекатастрофический поэт — кажется, единственный великий поэт этой непоэтической эпохи.
Все они, эти поэты, говорили то, что мне — в разное время жизни — хотелось бы сказать. Вот, думала я, то высказывание, которое мне так хотелось бы произнести: но своими устами я этого сделать не могу. Поэтому пусть скажут через меня Рильке или Целан. Знакомый мне мальчик-музыкант говорил в семь лет: «Мне хотелось бы написать одну музыку: Сороковую симфонию Моцарта. Но она уже написана». Стихи Рильке или Целана по-русски написаны ещё не были.
— Переводческий опыт — ещё и важный экзистенциальный опыт: переводя, человек делается более пластичным.— Да, так же, как опыт общения с другими языками. Один — кажется, французский — славист заметил, что между русской классической литературой и литературой советской, среди других различий есть и такое немаловажное: русские классики были людьми не одного языка.
А советские писатели одноязычны. Это сильно сказывается на письме. Конечно, русские литераторы XIX века могли знать европейские языки в разной степени, но если они и не могли писать по-французски, как Пушкин или Тютчев, по крайней мере читали на других языках.
И это общение с другими языками, с другой манерой выражать вещи, изменяет отношение к родному языку: оно его освобождает, расширяет.
Дело совсем не в том, что из этих языков что-то заимствуется, просто отношения с родным языком становятся свободнее: легче, умелее, можно сказать.
— Видимо, это освежает чувство языка и, может быть, чувство жизни вообще.— И кроме того, обостряет чувство зазора между переживанием, смыслом и словесным выражением, между «так есть» и «так называется».
У одноязычного человека такого зазора нет. Он не отличает мира, высказанного в языке, от мира внесловесного. Потому у наших одноязычных авторов — бóльшая тяжесть, трафаретность, задавленность языком. Язык послушнее, чем они думают.
Между прочим, один из самых частых упрёков мне был (и остаётся) — «так по-русски не говорят», «это не по-русски». Смею предположить, что эти защитники правильной грамматики и синтаксиса вряд ли сдали бы мне историю русского языка, если представить такой экзамен. В конце концов, русский язык и его история — это моя лингвистическая профессия.
— А какими языками вы владеете?— Владею — слишком сильное слово. Я читаю достаточно свободно на английском, немецком, французском, итальянском, польском. Я довольно серьёзно занималась классическими языками, особенно латынью, греческим меньше. Благодаря сравнительному славянскому языкознанию, которое мы на филфаке хорошо изучали, и общей лингвистической выучке, я могу, если требуется, читать и на других славянских.
В том кругу, где мне довелось с университетских лет оказаться, в кругу тартуской «Семиотики» и московской структурной школы было бы странно, если бы кто-то не читал на основных европейских языках и не знал латыни, «чтоб эпиграфы разбирать».
Можно ли сказать, что какой-то из этих языков вам ближе прочих? Насколько я могу судить, с языками складываются такие же личные отношения, как, скажем, с людьми.- Не знаю, мне, вообще говоря, все языки нравятся.
И нет такого чувства, что, скажем, какой-то язык холоден и отталкивает, а какой-то — горячий, в нём хочется жить?- Нет. Я думаю, разница для меня другая: на некоторых языках мне удаётся и писать, и говорить, а не только читать и слушать — это английский и итальянский.
Активно владеть немецким мне не удаётся. Отрывать от глагола приставку и ставить её в конец фразы! К этому я не могу привыкнуть. Вообще же когда я изучала языки — а всё это происходило за железным занавесом — у меня была одна задача: как можно скорее достичь того уровня знания, которое позволяет читать любимые вещи в оригинале. Я изучала их, в сущности, как мёртвые языки.
И плоды такого изучения налицо: говоря на современном итальянском языке, я могу делать грубые грамматические ошибки, но язык Данте не доставляет мне трудностей, что самих итальянцев немало забавляет. Для них это почти как для нас читать «Слово о полку Игореве».
— Вас тоже много переводили. Интересный опыт: видеть свои слова и мысли в переводе?— Судить об эстетическом качестве переводов моих вещей я никогда не берусь.
— Здесь даже не об эстетике речь, а о внутренней пластике, о качестве смыслов.— Я убеждена, что настоящий судья переводов — носитель языка. Это он может сказать, получились эти стихи на его языке или нет.
Но он в любом случае носитель другой точки зрения. Я же спрашиваю немного о другом — узнаёте ли вы себя в иноязычном воплощении?- Узнаю. С удивлением узнаю. Иногда мне даже больше нравится перевод, чем оригинал. У меня были очень хорошие переводчики. Естественно, в стихотворных переводах всегда многое теряется, я сама как переводчик могу это только подтвердить. Но в нашем переводе и в западном теряются разные вещи. У нас есть такие требования к переводу, которых нет в современной Европе. По нашей традиции, необходимо передавать и внешнюю форму стиха: ритм, метр, рифму. В Европе так не делают. Там всегда переводят верлибром.
— Даже рифмованные стихи?— Да.
— Как удивительно. Ведь в облике текста многое теряется.— Иногда всё. Бродский с этим воевал; чтобы дать своим переводчикам образец, сам переводил свои стихи на английский — с рифмой и метром. Ему-то это нравилось, а вот носителям языка не очень. Потому что в каждой традиции есть свой исторический момент.
Регулярный стих теперь звучит архаично по-итальянски или по-английски. Или же он принадлежит определённым — лёгким — жанрам: в рифму пишут для детей или тексты популярных песен, а серьёзные стихи вроде бы в рифму уже писать не принято.
Впрочем, теперь возвращаются строгие формы, регулярный стих — есть такие движения в современной европейской поэзии.
Но переводят всё-таки верлибром. И мастерство перевода состоит не в том, чтобы, как у нас, соблюсти и внешнюю форму, и (более-менее) «содержание».
Но у нас переводчик жертвует прежде всего стилистикой. Переводческий стиль — это что-то невозможное, так никто никогда не напишет, он возникает из-за необходимости подогнать под рифму. В переводах этот чудовищный стиль сходит, причём под именем Малларме или других самых изощрённых авторов.
Ради обязательного соблюдения формы жертвуют и смыслом — тонкими оттенками смысла. В целом в нашем переводе всё выходит куда проще, банальнее и глупей.
А западные переводчики больше всего заботятся именно о выборе слов, о тонкостях смысла. А на месте регулярного стиха они создают что-то своё — это всё-таки не подстрочник, это каким-то образом организованный стих.
У меня было такое представление, что разные языки по-разному восприимчивы к смыслам друг друга. Скажем, русский текст может быть передан на разных языках с разной степенью приближения. Не было ли у вас такого впечатления?- Это объективный факт. Здесь дело не только в языке, но и в традиции. Русская поэтическая традиция, сама классическая русская версификация куда ближе германской, чем французской или английской.
Кроме того, очень важный момент в переводе — личность переводчика. Она может быть важнее, чем язык. Заинтересованный и чувствующий человек может передать стихи и на том языке, который к русской поэзии не привык. У меня самыми счастливыми случаями перевода были такие, когда переводили поэты. Притом даже такие, которые русского не знали совсем или знали очень поверхностно.
— Они работали с подстрочником?— С советчиком, я бы сказала. С человеком, который не только делал для них подстрочник, но мог бы ещё многое объяснить. Так меня переводил немецкий поэт Вальтер Тюмлер. Так переводила прекрасная американская поэтесса Эмили Гроссхольц. Её консультантом была Лариса Певеар (Волохонская), чьи новые переводы Льва Толстого произвели сенсацию в Америке.
Лариса замечательно образована и удивительно чувствует стихи. Эмили сначала услышала моё чтение по-русски и сравнила с наличными переводами. Она почувствовала, что нечто существенное в них упущено, и решила попробовать передать это упущенное, не зная русского. Вместе с Ларисой Певеар они долго работали над переводом. Это редкая удача.
Судя по восприятию читателей, удалась моя книжка по-албански. Её переводил поэт Агрон Туфа, прекрасно владеющий русским. Говорят, очень хорошей получилась датская книжка. Её переводчица, Мете Дальсгард, не поэт. Она лучший в Дании переводчик русской литературы.
Когда-то в интервью Дмитрию Бавильскому вы отказали поэзии в законности её претензий на близость к сакральному опыту, настаивая на том, что это — другого рода творчество. Меня это тогда удивило, потому что мне казалось, что поэзия вообще, а ваша в частности и, может быть, в особенности, касается сакрального, просто своими средствами. Так какого же рода опыт — поэтический, если это — не касание основ бытия?- Видите ли, обычно мои высказывания конкретны. В этом случае я имела в виду распространённую путаницу, когда стихи на религиозные темы автор считает «религиозными» или даже «духовными», и всяческие претензии и амбиции вроде «я пишу духовную поэзию». Так что это ответ на такие недоразумения.
Конечно, поэтический опыт для меня не что иное, как род духовной жизни. Известный немецкий критик Иоахим Сарториус написал даже, что мои сочинения — не «стихи, как мы привыкли это понимать: это род духовных упражнений». Самой мне рассуждать об этом неловко.
— А как бы вы сформулировали, чем отличаются стихи на религиозные темы от религиозных стихов?— Тема стихотворения и его реальность — его «плоть», состоящая из звуков, ритмов, интонаций и т.п. — совершенно разные вещи. На религиозные сюжеты можно писать такие стихи, которые всей своей плотью выражают только грубость или пустоту. Т.С. Элиот в своё время ввёл такое разграничение: devotional poetry и religious poetry.
Devotional — это стихи, которые у нас сочиняли авторы второй руки и которые печатались в журналах душеполезного чтения. Это прикладная, иллюстративная поэзия. Не то чтобы непременно плохая, но почти непременно заурядная. Она и не хочет быть другой, потому что дело не в ней. Автор излагает — с педагогической или ещё какой-то благой целью — уже готовые смыслы.
А то, что Элиот называет religious, вовсе не обязательно имеет отчётливый религиозный сюжет. Но стихи несут на себе печать непосредственного опыта встречи с «последними вещами». В этом смысле «Гамлет» (которого Элиот, впрочем, не любил) — глубоко религиозная вещь.
Однажды вы сказали, что вам никогда не казалось, будто от поэзии вообще что-то зависит. Видимо, это тоже было какое-то ситуативное высказывание? Что всё-таки означает присутствие поэзии в культурном поле, к чему оно приводит?- Да, это в «Похвале поэзии». И понимать это обобщённо не стоит. В.В. Бибихин однажды сказал: «Поэзия пишет в генах». Даже если стихотворение — настоящее стихотворение — никто не услышал, даже если автор его и не записал, важно, что оно произошло. Оно сделало свою работу.
— Значит, это экзистенциальное событие.— Космическое. И оно, так или иначе, входит в состав воздуха и создаёт те возможности, в которых живёт человек. Мы не можем представить, что было бы с нами, кем были бы мы, если бы не были написаны стихи Пушкина.
— Получается, что это настраивает культуру в целом, как совокупность возможностей, напряжений, интонаций?— Очищает, я бы сказала. Если представить себе, что прекратится создание (лучше сказать: появление) стихов, вылавливание их из космического шума, мне кажется, это будет опасно для жизни цивилизации. Поэзия очищает воздух, как гроза. Она противостоит хаосу, загрязнению, заваливанию человеческого пространства какими-то лишними вещами.
— Сомнительно, что поэзия когда-либо исчезнет, потому что, судя по всему, это антропологическая константа.— Да, но о «смерти поэзии» в нашей цивилизации много говорят…
Вы не раз говорили, что в нынешней культуре много лжи и фальши, то есть много неподлинного. Но ведь не сводится же всё к лжи и фальши. Есть ли что-то, происходящее сейчас, что кажется вам важным, таким, на что можно надеяться в смысле культурных перспектив?- Об этом я много думаю и пишу. В четырёхтомнике большая часть эссе будет как раз об этом: о положении, в котором сейчас находится художественное творчество. О том, какие новые возможности заключает в себе наше время. Что нового оно несёт — нового после всех великих достижений минувшего века.
Может быть, это будет видно позже, когда время пройдёт, когда наша эпоха отодвинется от нас как цельное образование?- Задача художника, по-моему, в этом и состоит: уловить, что несёт его время, какая в нём глубина, а не те внешние и обычно неприглядные стороны, которые так любят публично обсуждать. И я чувствую, что благодаря нашему времени я могу кое-что увидеть такого, чего, скажем, Борис Леонидович Пастернак не мог. Не потому, что я гениальнее, а потому, что время другое. Мы сегодня знаем что-то, чего не знали тогда.
— Что же мы такое видим, чего не было видно, скажем, в 50-е годы?— Говоря «мы», я имею в виду тех, кто действительно современник своему времени. Таких всегда немного. Люди отстают не только от «своего времени», но от всех времён вообще, они охотно поселяются в вечном безвременье. Особенно те, кто любят рассуждать о «современности».
Ещё Лев Толстой писал, что посредственные люди всегда говорят о «нашем времени», как будто оно им совершенно понятно. В каждом времени есть какой-то творческий порядок, но его нелегко различить, потому что он скрыт. К нему надо прислушиваться.
Какое же у нас новое приобретение после всех великих открытий ХХ века? Я бы сказала, что в каких-то отношениях у нас больше свободы. Свободы в ритмике, например. Свободы от «реализма». Свободы от «лирического я».
Что ещё? То движение, теневой стороны которого касаются, когда говорят о глобализме, о планетарной цивилизации. О глобализме как характернейшем и всем открытом знаке нашего времени обычно не говорят ничего доброго. Смешение и утрата традиций, выравнивание всего на свете по низкому уровню, упрощение, гомогенизация и т.п.
Но это — теневая сторона происходящего. А сердцевина его: ощущение связности мира, явное, как никогда. Конкретное явление общечеловеческого. Это что-то значит и чего-то требует. Мы принадлежим «мировой литературе» не в том смысле, как это видел Гёте, а в самом непосредственном. Удавшуюся вещь через месяц читают на других языках.
— Значит, вы видите движение в направлении прирастания свободы и общечеловечности?— По известной концепции блаженного Августина, есть две одновременно происходящих истории: история града Божия и история Вавилона.
История Вавилона всегда пессимистична. А вот о том, что такое история града Божия, на самом деле почти не задумывались. И пока я не прочитала Августина внимательнее, думала, что это просто противопоставление временного и вневременного.
Град Божий — вне времени, это вечность, бессмертие «после всего». Но августиновская идея не так проста. И у Града на земле есть своя творческая, нарастающая история.
Статистически, количественно, её почти не заметишь. Это история малых величин. Малых величин, заряженных огромной потенцией будущего. Как знаменитое горчичное зерно. Или крупицы соли: «вы — соль земли». Соли не должно быть много, никто не ест соль вместо хлеба, но без соли всё погибнет.
И эта «другая» история всегда идёт с каким-то приращением, а не путём деградации, как языческая смена веков: золотой — серебряный — железный. Наши современники не смогут, скорее всего, написать такую драму, как Шекспир и тем более Эсхил, такой роман, как Достоевский, но они могут кое-что, чего ни Достоевский, ни Шекспир не знали. Что-то прибавляется и открывается.
В связи с назойливой темой современности в пошлом смысле Александр Величанский написал: «Нет на свете тебя! Человек современен лишь Богу». Вот это — настоящая современность. И в каждый момент человек по-новому современен.
— Каждое время состоит в некоторой собственной связи с основами всего?— Именно так.
Беседовала Ольга Балла
СЕДАКОВА Ольга Александровна — (р. 1949) русская поэтесса. Одна из самых ярких поэтических индивидуальностей андерграунда 1970 80 х гг. До 1990 почти не публиковалась. Поэзия отмечена богатой метафорикой и концентрированной образностью. Сборник стихов Китайское путешествие… … Большой Энциклопедический словарь
Седакова Ольга Александровна — (р. 1949), русская поэтесса. Обращаясь к разнообразным духовным традициям (от славянского фольклора до европейского неоклассицизма XX в.), создаёт условный мир вечного, «ветхого» времени, в котором смертный человек постигает непредсказуемость,… … Энциклопедический словарь
Седакова Ольга Александровна
Седакова, Ольга Александровна — Поэт, прозаик, переводчик, филолог; родилась 26 декабря 1949 г. в Москве; окончила русское отделение филологического факультета МГУ, кандидат филологических наук; преподает на кафедре истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ; … Большая биографическая энциклопедия
Ольга Александровна Седакова — Ольга Седакова во Флоренции Ольга Александровна Седакова (26 декабря 1949, Москва) русский поэт, прозаик, переводчик, филолог и этнограф. Содержание 1 Биография … Википедия
Седакова — Седакова, Ольга Александровна Не следует путать с Седакова. Ольга Александровна Седакова Ольга Седакова во Флоренции … Википедия
СЕДАКОВА — Ольга Александровна (род. 1949), русская поэтесса. Обращаясь к разнообразным духовным традициям (от славянского фольклора до европейского неоклассицизма 20 в.), Седакова создаёт условный мир вечного, ветхого времени, в котором смертный человек… … Русская история
Баскакова, Татьяна Александровна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Баскаков. Татьяна Баскакова (род. в 1957 в Москве) – российский филолог, переводчик. Содержание 1 Биография 2 Переводы 3 … Википедия
Современные русские поэты — … Википедия
Русские поэтессы — … Википедия
Книги
- Стихотворения шаги. Избранные стихи , Седакова Ольга Александровна. Ольга Седакова — выдающийся современный русский поэт, автор 45 книг стихов, прозы, переводов, филологических и философских исследований, вышедших на разных языках. Ее называют наследницей… Купить за 547 руб
- C ад мирозданья , Седакова Ольга Александровна. Ольга Седакова выдающийся современный русский поэт, автор 45 книг стихов, прозы, переводов, филологических и философских исследований, вышедших на разных языках. Ее называют наследницей…
Ольга Александровна Седакова (р. 1949) — в 1967 г. наряду с Д. Седаковой перевела стихотворения в «Алисе» (там, где прозаическую часть перевела Н. Демурова).
Ее перу принадлежат следующие переводы из Кэрролла:
«Как дорожит своим хвостом»,«Еда вечерняя»,«Ты мигаешь, филин мой»,«Дама Червей»,«Колыбельная»,
а также стихотворные переводы в комментарии Гарднера и «Приложениях» (в издании 1978 г.)
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
СЕДАКОВА Ольга Александровна
Родилась в 1949 году в Москве, в семье военного инженера.Закончила филологический факультет МГУ (1973) и аспирантуру Института славяноведения и балканистики (1983). Кандидат филологических наук (диссертация: «Погребальная обрядность восточных и южных славян», 1983).1983–1990 — работала референтом по зарубежной филологии (ИНИОН).1990–1991 — преподавала в Литературном институте имени А. М. Горького. С 1991 года работает в Институте мировой культуры (Философский факультет МГУ), старший научный сотрудник Института истории и теории мировой культуры (МГУ).До 1989 года в СССР не публиковалась.Опубликовала (на русском и в переводах) двадцать шесть книг стихов, прозы, переводов и филологических трудов.В российских и зарубежных изданиях публиковала филологические исследования, эссе и критику; переводы из европейской поэзии, драмы, философии (английские народные стихи, Т. С. Элиот, Э. Паунд, Р. М. Рильке, П. Целан, Франциск Ассизский, Данте Алигьери, П. Клодель и др.).Лауреат Премии Андрея Белого (1983), Парижской премиирусскому поэту (1991), Европейской премии поэзии (Рим, 1995), Премии имени Владимира Соловьева «Христианские корни Европы» (Ватикан, 1998), Премии А. И. Солженицына (2003). Доктор богословия honoris causa (Минский Европейский гуманитарный университет, факультет богословия), 2003.Кавалер ордена искусств и словесности (Франция), 2005.
***Из интервью с О. Седаковой:
— Вы — поэт, много переводящий. А первым был Ваш перевод стихов кэрролловской «Алисы»?- Первым опубликованным переводом. Переводить мне было интересно со школьных лет. Начала я, помню, с баллады Йетса (Yeats). Но печатать я ничего не пробовала. Нина Михайловна Демурова предложила мне перевести те стихи из «Алисы», которые не успела закончить Дина Григорьевна Орловская. Работая с ней, я впервые встретила уважительное отношение к решениям другого переводчика: ведь у нас господствовало тогда (да и теперь никуда не исчезло) не “авторское право” на текст, а “редакторское право”. Каждый редактор лучше автора знал, “как нужно”. С изумлением и благодарностью думаю о Нине Михайловне.
***Из интервью Е. Калашниковой с Н. Демуровой, «Русский журнал»:
РЖ: О.А.Седакову мало интересует то, что относится к биографии переводимых авторов. «Меня интересует человек в состоянии говорения, мне надо почувствовать его почти физическую природу, вроде «холодно» — «горячо». Это дает только сам текст».
Н.Д.: О.А.Седакова — особый случай, у нее огромный кладезь знаний, но она в первую очередь замечательный поэт, а не переводчик. А обычный переводчик, даже очень талантливый, только выиграет, если будет знать больше об авторе и его времени.
***Нина Демурова «Беседы о Льюисе Кэрролле»(Фрагменты книги «Картинки и разговоры»):
В середине 70-х я работала над «новым» Кэрроллом — вторым вариантом перевода дилогии об Алисе, который предназначался для академического издательства «Наука» (серия «Литературные памятники»). В отличие от так называемого «софийского» издания моей «Алисы» этот том предполагалось выпустить с подробным комментарием Мартина Гарднера, где в частности приводились оригиналы пародируемых Кэрроллом стихотворений. Я размышляла о том, кого бы пригласить для этой непростой задачи: ведь помимо детских стихов среди пародируемых произведений были стихи таких поэтов, как Вордсворт и Вальтер Скотт. В конце концов, я обратилась за советом к Михаилу Викторовичу Панову, замечательному ученому и человеку (который, кстати сказать, написал интереснейшую работу о русских переводах баллады Кэрролла «Джаббервоки»). Он назвал мнеОльгу Седакову. Сейчас она хорошо известна не только у нас в стране, но и за рубежом, однако в те годы ее у нас не печатали. Я позвонила Ольге Александровне, и она с готовностью откликнулась на мое предложение. Работать с ней было удивительно интересно и легко — мне и «Алисе» очень повезло.
Нина Демурова. Мы с вами познакомились с легкой руки Михаила Викторовича Панова. Если не ошибаюсь, вы у него учились?
Ольга Седакова. Михаил Викторович был моим университетским учителем; у него я изучала русскую фонетику и несколько лет участвовала в его удивительном семинаре по лингвопоэтике (пока ему по политическим мотивам не запретили преподавать в МГУ). Его лингвистическая гениальность до сих пор не оценена; его своеобразнейшая история русской поэзии, в которой главным предметом изучения был гнотр (это придуманное им слово, которое должно обозначать нечто третье по отношению к метру и ритму — не по-кэрролловски ли это звучит?), так и не издана. Он был первым «взрослым» человеком, который одобрил мои сочинения, и филологические (он сумел напечатать мой этюд о Хлебникове, когда мне было 19 лет!), и — что еще важнее было для меня — поэтические. На одном из его семинаров мы разбирали и «Джаббервоков». Михаил Викторович любил игру — языковую, стихотворную, он был настоящим наследником русского авангарда и сам сочинял «заумные» фонетические стихи и даже целые поэмы, не более — но и не менее — понятные, чем «Джаббервоки». В них тоже «кто-то что-то с кем-то делал». Он не мог не любить Кэрролла.
Н. Д. В те годы ваше имя было известно лишь узкому кругу друзей и любителей поэзии. Ваши стихи выходили в самиздате? Насколько я помню, печататься вы стали лишь значительно позже?
О. С. Да, не печаталось ничего. Ни стихи, ни статьи, ни переводы. Стихи ходили в самиздате и таким путем дошли до парижского издательства YMCA-press, где и появилась моя первая книжка — в 1986 году. В Москве первая книга стихов вышла в конце 1990 года. В то время, когда мы встретились, я не только не публиковалась, но и была «на плохом счету». Даже имя мое (как и имена других неподцензурных поэтов нашего поколения) не упоминалось в печати. Так что участие в вашем издании Кэрролла стало для меня просто первым случаем легализации (и много лет еще оставалось единственным), в своем роде «охранной грамотой».
Н. Д.Мне представлялось, что перевод оригиналов кэрролловских пародий представлял собой непростую задачу. И дело не только в том, что тексты были самые разнообразные и по тональности, и по стилю, но и в том, что сам Кэрролл относился к ним по-разному. Далеко не все из них были пародиями в прямом смысле слова. Не скажете ли вы об этом несколько слов?
О. С. Это была неожиданная для меня и очень интересная задача. Переводы пародий Дина Орловская уже по большей части сделала — и обратным путем к ним нужно было подвести переводы исходных текстов. В самом деле очень разных — высокой поэзии и дидактических школьных виршей. О пародии можно говорить только во втором случае («Лупите своего сынка», «Это голос омара»), в первом же — речь идет скорее о каком-то инобытии текстов, о безумных вариациях на их тему — они, как и сама Алиса, попали в невообразимое пространство. Борис Заходер выбрал другой путь — «по аналогии»: вместо кэрролловских «передернутых» английских стихов у него пародии на хрестоматийные русские. (Вообще говоря, для большего сходства здесь должны были бы пародироваться советские воспитательные, доктринальные стихи — как это и делалось в школьном фольклоре; я помню, как мы соединяли через строку слова нашего Гимна — и некрасовское «Однажды в студеную зимнюю пору»: вот это было бы да! Или взять лозунги Маяковского, вроде «Партия и Ленин — близнецы-братья». Вот уж пространство для игры! Но по понятным причинам такой перевод-пересказ света бы тогда не увидел.) Для нашего читателя заходеровский путь наверняка легче, комизм такого рода привычнее и проще. Но путь, который избрали вы, мне нравится больше. Вы оставили Кэрролла английским. В вывернутом пространстве оказалась музыка британской поэзии. Мне досталось ее как-то передать — и согласовать с ее теневыми подобиями.
Н. Д. Когда вы впервые познакомились с книгами Кэрролла?
О. С. Я помню «Алису» с очень ранних лет. Наверное, мне ее скорее читали. Это из тех воспоминаний, без которых себя не помнишь. Не могу сказать, чтобы она мне тогда очень понравилась. Она была слишком не похожа на другое раннее чтение (или слушание) — на традиционные народные сказки, вроде «Василисы Премудрой», или на сказки Андерсена, которые я больше всего любила, или, наконец, на «Конька-Горбунка» и сказки Пушкина. Меня пугал этот мир, где все встречные ведут себя с героиней не то что жестоко, но как-то холодно. В школьные годы это становится понятнее: кэрролловский мир — это уже мир отчужденных вещей и людей, как в школе, в начальных классах, где неизвестно почему тебя заставляют запоминать разные отвлеченные вещи вроде склонения существительных или таблицы умножения. Требуют послушания непонятным тебе требованиям, все время проверяют, куда-то посылают и тому подобное. Это уже не мир младенчества. Это мир ученика, воспитуемого. Наверное, у меня еще не было этого опыта, когда я узнала Алису. Но некоторые места изумляли и запомнились навсегда: про рост и уменьшение Алисы особенно. Кстати, английские абсурдные стихи в передаче Чуковского, Маршака (Хармса я узнала гораздо позже) мне и в раннем детстве очень нравились! Английская детская поэзия — великий дар российскому детству.
Н. Д. Менялось ли с годами ваше отношение к Кэрроллу?
О. С. В сознательном возрасте я читала «Алису» уже на занятиях по английскому языку, в университете. И это было уже чистое наслаждение. Наслаждение скоростью мысли, фантастической логикой Кэрролла, свободой его ума от тривиальной данности. То, что в детстве мне казалось недобрым, жестким, странным, теперь предстало просто освобожденным от привычных эмоций, как бы вынутым из поля эмоциональных и простейших моральных — «душевных» — отношений. Такой эксперимент очень освежает. Для русского искусства, которое порой слишком близко подходит к сентиментальности и морализаторству, подобное упражнение в чистоте воображения, мне кажется, полезно.
Н. Д. Думаете ли вы, что Кэрролл оказал какое-то воздействие на русскую поэзию — или, возможно, даже вообще литературу — ХХ века?
О. С. Мне не приходилось всерьез задумываться над этим. Об английских nurseryrhymes можно и не задумываясь ответить: они во многом создали и продолжают создавать нашу словесность для детей, и стихи, и прозу. С Кэрроллом труднее. Очевидный пример — Набоков. Его фантастика, его комбинаторное воображение для меня несомненно отмечены печатью Алисы. Это, может быть, и заставляет многих видеть в нем «нерусского» писателя, слишком отчужденного от «душевности». Через Набокова это влияние проникает и дальше. Но в самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было бы больше об этом подумать.
Н. Д. Чем, по-вашему, объясняется популярность Кэрролла в России?
О.С. Я могу только предполагать: эта воздушная иррациональность, я бы сказала, этот танец смыслов как-то облегчает восприятие окружающего нас абсурда. Российский бытовой абсурд тяжел, безвыходен, может представиться, что он поглощает тебя, как болото, — а здесь такая игра. С безумными обстоятельствами можно свободно играть! Вот что, мне кажется, утешает и радует отечественного читателя. Ксения Голубович, молодой писатель и филолог-англист, увидела в моей прозе, в «Двух путешествиях», своего рода новые похождения Алисы. В мире странном, непроницаемом, где поведение встречных предсказать невозможно, проходит путешествие повествователя, которым, как Алисой, все пытаются командовать, его экзаменуют, переставляют с места на место… А сами при этом похожи невесть на кого — на Чеширского Кота или на Труляля. Моя проза — хроники, в них ничего не придумано, но мир получается в самом деле кэрролловский. Вероятно, это Кэрролл и научил меня, как можно обезвредить этот угрожающий абсурд — во всяком случае, для того, чтобы его описать. Нужно его встряхнуть — и заставить танцевать.
Н. Д. Ваша любимая цитата (или сцена) из Кэрролла?
О. С. Шалтай-Болтай и все его изречения. Великий образ!
***О. Седакова об искусстве перевода:
Я хочу начать с того, что не отношу себя к гильдии переводчиков. Это не какой-то гордый жест отстранения — я с почтением отношусь к профессионалам, к тем, для кого перевод — постоянная работа, ремесло. Просто для меня это не так. Я перевела довольно много, и разного, но задачи у меня были обычно какие-то другие (иногда исследовательские, иногда экспериментальные — то, что Б.Дубин назвал «решить поэзию как таковую», иногда — нечто вроде приношения, дара благодарности любимому поэту) то есть задачей перевода не был перевод сам по себе. Но главное отличие профессионала, по-моему, в том, что сама переводимость любого текста для него не проблема. Проблема в том, как это сделать. А для меня каждый текст прежде всего проблемен в этом отношении: дастся ли он переводу? Во-первых, переводу на русский язык, в самом широком смысле этого слова, включая нашу традицию версификации, наш рифменный репертуар; затем — моему переводу, то есть тем возможностям, какими лично я располагаю. Если я чувствую, что нет, то и не пробую. Любя Рильке, в юности просто утопая в нем, я перевела лишь несколько его стихотворений. Мне никогда не пришло бы в голову переводить целую книгу Рильке, как К.П.Богатыреву. И так всегда, за редкими исключениями, когда надо было заработать на хлеб.
